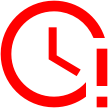«У моего парня было около 100 переломов»: люди с несовершенным остеогенезом о хрупкости костей и жизни в России
Разрешение от министра спорта для похода в бассейн, марафоны с коляской и инклюзивные немецкие бары
Несовершенный остеогенез называют «болезнью хрупких костей» или «хрустального человека» из-за того, что при ней часто и неожиданно случаются переломы. Это заболевание неизлечимо и встречается у 6 из 100 000 новорожденных.
Мы спросили директора благотворительного фонда «Хрупкие люди» о том, как НКО помогают больным остеогенезом и почему россияне жертвуют деньги даже в период кризисов, а также поговорили с самими «хрустальными людьми» — о том, как они участвуют в марафонах на колясках, зачем им нужно получать разрешение от министра спорта для походов в бассейн и чем российские бары хуже немецких, если ты человек с ограниченными возможностями.
Елена Мещерякова, директор фонда «Хрупкие люди», мама ребенка с несовершенным остеогенезом: «Когда все вокруг сыпется, в том числе и твое тело, трудно идти вперед»

Елена Мещерякова (в центре) с подопечными фонда «Хрупкие люди»
О том, как узнала о болезни
До рождения дочери я даже не подозревала о существовании несовершенного остеогенеза — и на диагноз, конечно, отреагировала тяжело. Три года я не могла до конца поверить, что мой ребенок неизлечимо болен. Чуть что, мне всегда казалось: больше переломов не будет — этот последний.
Новорожденную дочь сразу увезли в детскую больницу. Я заметила, что она не могла шевелить одной ногой и плакала, когда я меняла ей памперс. Врачи сделали рентген: оба бедра были сломаны. Следующий перелом произошел, когда дочке был год: медсестра в поликлинике вытянула ей ногу, чтобы измерить рост. Дочь заплакала, и позднее стало понятно, что у нее сломана голень.
Такие ситуации происходили постоянно — и уберечь ребенка от них я не могла. Трудностей добавляла нехватка информации: в интернете были только страшные прогнозы и статьи с перечислением симптомов, которые не сулили ничего хорошего.
В больнице, где мы наблюдались, я узнала о препарате, которым лечат детей с подобным диагнозом за границей. Купить в России его было можно, однако докторов, которые умели с ним работать, практически не существовало. Информацию о дозировке и о применении мы получили от белорусского врача, который перевел протокол лечения, опубликованный в одной канадской статье. Препарат снижает количество переломов в три раза, дает возможность реабилитации и укрепления костей.
Я позволяла ребенку двигаться столько, сколько ему хотелось. Моя задача была постоянно быть рядом, поддерживать, помогать, страховать.
Это было трудно, но я очень хотела спасти дочь от обездвиженности и инвалидной коляски. Мы даже поставили дома спортивный уголок, чтобы она делала на нем упражнения.
Когда ей исполнилось пять, ситуация сильно улучшилась — переломы случались реже. Не имея возможности водить девочку в детский сад, я все равно старалась развивать ее во всех направлениях: например, организовывала группы по чтению, больше даже для того, чтобы она общалась с другими детьми. Я всегда выступала за полную социализацию: в школу ребенок пошел в обычную, а потом и в музыкальную. Сейчас дочь уже учится в университете на ветеринара, самостоятельно передвигается, а год назад стала даже инструктором по танцам.
О фонде «Хрупкие люди»
Более восьми лет назад я решила официально создать фонд. Раньше для этого не было нужно ничего, кроме желания и устава — то есть представления о том, что ты хочешь сделать. Я нашла юриста для регистрации, и мы управились за месяц. Каждый год фонд подает в Минюст финансовые отчеты и проводит аудиторскую проверку. Сейчас у нас около 900 подопечных в России и СНГ, и если раньше мы были службой «одного окна», то есть на письма и звонки отвечала одна я, то теперь консультациями и «выстраиванием маршрута» пациентов занимается несколько специалистов.
Система фонда состоит из пяти элементов. Первый — лекарственная терапия: мы работаем с государством, чтобы сделать лечение бесплатным и общедоступным. Успехи уже есть: сейчас дети могут лечиться в рамках ОМС, ВМП (высокотехнологическая медицинская помощь — Прим.ред.) и т.д. Квалифицированных специалистов не хватает, и я планирую организовать обучающий курс для врачей. Еще с рынка недавно ушла фармацевтическая компания, которая производит бисфосфонат (препараты, влияющие на костные ткани — Прим.ред.), но за это время появился российский аналог, то есть мы без лекарств не останемся.
Следующий элемент — ортопедическая хирургия. Мы добились легализации штифтов в России (то есть регистрации, без которой местные хирурги не могли использовать зарубежные штифты и проводить операции — Прим.ред.). Это был путь длиной в пять лет, и наконец, в сентябре 2017 года, они были зарегистрированы, а в 2019 появилась первая квота на лечение за счет государства. Штифтов требуется больше, чем могут оплатить власти, поэтому во многом средства на них по-прежнему дают фонды — однако теперь хотя бы не надо никого отправлять за границу.
Далее — физическая терапия. С ней помогает наш онлайн-проект «Служба мобильной реабилитации», с которым мы сотрудничаем уже три года, и результаты хорошие: дети качественно меняются, повышают свои двигательные показатели. Следующий элемент — социально-психологическая помощь: лагеря, детская профориентация и поиск репетиторов.
Но главное направление — это, конечно, сбор средств на операции. Мы принимаем заявку, оцениваем, уточняем детали у врача, а затем пытаемся определить, сможем ли собрать деньги. В последнее время делать это стало сложнее. Во-первых, очень сильно подорожали штифты: сейчас операция стоит от 600 тысяч и до 1,6 млн в коммерческих клиниках. Во-вторых, отражается политическая обстановка, значительно изменился уровень жизни. Людям уже не до помощи окружающим — прожить бы самим. Впрочем, мне кажется, есть и свои плюсы: людям в тяжелых обстоятельствах важно иметь дополнительный смысл. Когда небольшим взносом можешь спасти жизнь ребенка, чувствуешь, что хоть на что-то еще можно повлиять. Для сбора средств мы пользуемся самыми разными платформами: mail.ru, Туба, «Сбербанк вместе», наш сайт, соцсети, рассылки для жертвователей.
На мой взгляд, в России нужно проводить как можно больше образовательных курсов и конференций для специалистов, обучать врачей, постоянно формировать систему коммуникаций: быть на связи и с пациентами, и с врачами, потому что государственное здравоохранение ограничено в возможностях. Еще одна проблема — специалисты не всегда внимательно относятся к пациентам. Надеюсь, когда-нибудь мы дорастем до более чуткого отношения к врачебной этике и уйдем от бюрократизации. Наш фонд использует все информационные возможности и активно привлекает медиа.
А главное — мы вселяем в хрупких детей надежду на то, что они могут все. Это очень важно: ведь когда все вокруг сыпется, в том числе и твое тело, трудно идти вперед.
Оля Мещерякова: «Маме все детство говорили, что ходить я не буду»

Оля Мещерякова (крайняя справа)
О диагнозе
Мне 18 лет, с этого года я учусь на ветеринара в Ростове. Дома в Москве у меня три кошки, а у моего молодого человека — 700 попугаев, он занимается изучением птиц. Кроме интереса к животным и птицам нас с ним объединяет несовершенный остеогенез.
За всю жизнь у меня было 18 переломов, последний случился шесть лет назад. Это еще не самый неудачный случай:
у моего парня было около 100 переломов, он умеет сам снимать себе швы и накладывать гипс — не удивлюсь, если скоро начнет делать себе операции.
А вот я боязливая, каждый раз, получая травму, сильно переживаю и впадаю в депрессию.
Сейчас у меня IV тип несовершенного остеогенеза (промежуточная степень тяжести — Прим.ред.), хотя и на I тип (самый легкий — Прим.ред.) мой случай тоже похож: внешних проявлений почти нет, и никто из моих преподавателей и одногруппников о моих особенностях не знает. Единственное, что указывает на мой диагноз — это деформация ног, их Х-образная форма. Из-за этого мне противопоказаны большая нагрузка на колени, приседания, прыжки.
Благодаря родителям мне очень повезло с лечением и врачами. Сейчас я иногда сталкиваюсь с рядовыми специалистами, которые не так хорошо разбираются в диагнозе — например, однажды в ростовской поликлинике ортопед не смог даже правильно написать название заболевания. Когда я проходила переосвидетельствование инвалидности, терапевт удивленно смотрел на меня, звонил другим специалистам и спрашивал, что это у меня такое и какие врачи мне нужны.
Я — первый ребенок в России, которому делали капельницы бисфосфонатами, мне тогда было три года. До этого момента я постоянно «ломалась», и маме все мое детство говорили, что ходить я не буду. Но каждые три месяца мы ездили на процедуры, и мне становилось лучше, а переломы происходили реже. Последний раз я делала капельницу четыре года назад, тогда же проверяла плотность костей и проходила реабилитацию у физиотерапевта. Она предполагает ежедневную работу с травмированной ногой, которую надо разрабатывать, сгибая через боль.
О взрослении
Переживать неприятности мне помогали родные и друзья, ровесники, которые всегда меня окружали. Я ходила в обычную школу, куда меня взяли без проблем. В первом классе я сломала бедро (это была моя первая операция), и после нее школа выделила мне домашнего преподавателя.
Только когда я восстановилась и захотела вернуться, директор решила, что я не могу этого сделать — боялась, что на территории школы со мной что-то случится, и вина ляжет на руководство. Дошло до медкомиссии: меня просили делать разные движения, а потом заключили, что со мной все в порядке. Мама написала заявление, что никаких претензий к школе не будет, и меня приняли обратно. Одноклассники всегда меня поддерживали — передавали рисунки и подарки, когда у меня были переломы. Только после девятого класса я перешла на домашнее обучение в частную школу: так было проще готовиться к экзаменам, сосредоточившись на своих предметах.
С ребятами, имеющими такой же диагноз, я общалась в больницах. Позже, когда это превратилось в общественную организацию, а затем в фонд, нам часто устраивали праздники и другие мероприятия, а со временем появились и первые лагеря. Впервые я поехала в лагерь от фонда «Перспектива», принимавший детей с разными формами инвалидности. Впечатления были смешанные: я была еще маленькой и поехала с бабушкой. Идея была в том, чтобы написать на смене пьесу и поставить ее в театре с настоящими актерами.
Позже лагеря стали организовывать и мы в «Хрупких людях» — их я не пропускала вообще. Сначала на сменах было человек по 20, а на последней уже около 200. От классических лагерей наш отличается огромным количеством образовательных и развлекательных мероприятий: был, например, кинолагерь, где мы снимали клипы. Несмотря на разницу в возрасте, всем пионерам очень интересно, каждая смена имеет свое тематическое направление — в этом году будет экономика, я собираюсь поехать.
О перспективах
Я считаю, что несовершенный остеогенез может помешать в самореализации только тем, кто перемещается на инвалидной коляске. Говорят, им сложно найти работу, хотя у нас много таких ребят, которые устроились в крупные компании. У меня самой проблем с самореализацией нет: из «безнадежной» девочки я стала инструктором по танцам. Три года назад я пошла в спортзал на первую тренировку, очень вдохновившись стилем «сейшн», а в прошлом году выучилась на преподавателя.
Сразу после обучения меня пригласили в проект от фонда «Служба мобильной реабилитации», где я работаю до сих пор, но уже онлайн, а не у себя в городе, где начинала. Занятия мы проводим только сидя: некоторые ученики могут ходить, но так проще и безопаснее. Родители ребят должны быть рядом, чтобы понимать, насколько ребенку тяжело. Возраст в группах варьируется от 5 до 13 лет.
Из проблем, с которыми сталкиваются люди с несовершенным остеогенезом — инфраструктура и трудности при получении льгот.
Многие врачи говорили, что инвалидность мне больше не дадут, хотя я инвалид с детства и мое заболевание неизлечимо. Все смотрят только на нынешнее физическое состояние, жадничают с этим статусом, хотя он мог бы принести много пользы: к примеру, я бы поступила в университет за счет льготы. Кроме того, нужно готовить больше специалистов по несовершенному остеогенезу в регионах: в той же Ростовской области, например, я не могу ни проверить плотность костей на аппарате, ни сделать капельницу — нет ни оборудования, ни компетентного врача.
Никита Середницкий: «До восьми лет я даже не мог сидеть»

Никита Середницкий (крайний справа)
О диагнозе и лечении
Мне 23 года. Я технический специалист, на мне — вся инфраструктура фонда «Хрупкие люди»: сайт, почтовые клиенты, рассылки, администрирование. Параллельно работаю в сфере электронных платежей.
Родился я уже с переломом: врачи подумали, что он внутриутробный, но потом все же поставили верный диагноз — несовершенный остеогенез III степени. Первая травма, которую я помню отчетливо, случилась, когда мне было девять: я только сменил одну коляску на другую, и попал колесами в слив — упал, сломал руку и ногу. С возрастом травмы становились все реже: мышцы укреплялись, помогала терапия.
Однако подходящего лечения я не получал до восьми лет — объясняли, что в России его просто нет. Симптомы «устраняли» гипсами и иммобилизацией, то есть неподвижностью — сегодня это уже не применяется. Советовали ограничить движения до минимума и исправлять деформации уже после совершеннолетия. Потом родители нашли контакты одного генетика: она сказала, что случай у меня достаточно запущенный, нужны реабилитация и медикаментозное лечение капельницами и бисфосфонатами. Это дало некоторые результаты: до восьми лет я даже не мог сидеть, а тут за короткое время начал садиться, меньше уставал, стал активнее.
Однако деформации все равно сохранялись, мне нужна была операция в Германии. С ней все время случались задержки — то сбор средств переносился, то другого пациента выбирали на операцию. Сбор проводился «Русфондом», сумма на 2013 год составляла около 60 000 евро, информацию распространяли в разных медиа.
Изначально мне планировали вставить штифты, но немецкий медик рекомендовал полную операцию — закрепить фиксирующие штифты к голеням и исправить деформации, иначе я не буду ходить, а так хоть частично встану на ноги. Дело кончилось двумя шестичасовыми операциями — на каждую ногу. Цель была достигнута, но ходить без опоры не все равно не получалось из-за деформации в спине.
Первое время я учился стоять, потом я стал делать первые шаги с опорой.
Сейчас я своим состоянием доволен, хоть и пользуюсь коляской, но могу встать с нее, если есть сопровождающий. Конечно, чувствовалось, что в Германии лечение и реабилитация людей с моим диагнозам уже поставлены на поток, все были хорошо осведомлены. В России тоже были хорошие специалисты, но не так много. Впрочем, сейчас ситуация улучшается: появляются новые центры, которые принимают по квотам, тогда как мое лечение было полностью коммерциализированным.
Окружающие почти всегда относились к моему положению с пониманием: обычно спрашивают что-нибудь о проявлениях болезни. А вот простые прохожие, кажется, всегда будут видеть в инвалидах красную тряпку — хотя тут все зависит от образования и воспитания. Самый странный случай — однажды мне в стаканчик с кофе бросили 15 копеек. Я стоял перед Макдональдсом, отвлекся в телефон, а какой-то мужчина бросил мне в кофе деньги. Самое ужасное — когда спрашивают, нужна ли мне помощь, и хватают коляску за ручки. Учитывая, что я еду на непешеходной скорости, в таких случаях приходится кроме собственного веса и массы коляски тащить за собой и «благотворителя».
Об участии в марафонах
История с марафонами у меня началась в одном из лагерей фонда. Я познакомился с марафонцем, который хотел пробежать с коляской и подопечным из фонда. С моей стороны физическая активность не подразумевалась, но мне это было неинтересно, и тогда он начал тренировал меня и моего приятеля — проводить силовой комплекс, тренировки перед марафоном.
Это было весной, а уже летом я взял свои первые два километра на коляске, затем — пять, десять, сегодня я в одном городе, завтра в другом. Кульминацией стало участие в международном марафоне в Минске, где я преодолел 21 километр за два часа. В этом году, правда, эту историю пришлось поставить на паузу: во время марафона я как раз сломал руку за 500 метров до финиша. Но я планирую продолжить, уже не на простой коляске, а на хэндбайке — у него три колеса, переднее больше задних, это позволяет гонять быстрее.
Дженнет: «Врачи говорили, что у меня рак и жить мне остается от нескольких лет до нескольких месяцев»

О переезде в Россию
Я учусь на третьем курсе в Университете Правительства Москвы на дипломата. В 2011 году мы с семьей переехали в Россию из Туркмении, где мою болезнь не лечили вообще. У меня редкая разновидность заболевания, из-за костных мозолей его проявление можно спутать с онкологией. Врачи говорили, что у меня рак и жить мне остается от нескольких лет до нескольких месяцев, предлагали ампутировать сначала одну ногу, потом другую, потому что они плохо росли.
Родители пытались найти специалистов по интернету, хотя в Туркмении он плохой и дорогой. Там в целом трудно жить с инвалидностью, даже в психологическом плане: люди очень суеверные и считают, что если ребенок рождается инвалидом, значит, родители сделали что-то не так, вели неправильный образ жизни. Уехать оттуда получилось только в Россию, где врач и подтвердила мой диагноз. Мы съездили на обследование в США, потом вернулись сюда и стали обустраиваться: разбирались с документами, долго искали жилье, несколько лет пытались получить гражданство.
До совершеннолетия я каждые три месяца лежала на капельницах. Кроме того, мне советовали делать зарядку и ходить в бассейн. С последним тоже возникли трудности: не везде готовы были принять человека с инвалидностью. В конце прошлого года мы пошли устраиваться в секцию недалеко от моего дома, где было все необходимое оборудование для людей с ограниченными возможностями. Но и там принимать меня отказались, заявив, что не готовы. В итоге записаться удалось только после того, как мама написала письмо министру спорта.
Об учебе в России и Германии
Мы долго искали школу. В начальных классах я училась в обычной, неприспособленной для коляски — в некоторые кабинеты мама носила меня на руках. Переехав, мы нашли школу с художественным уклоном, там мне через год предложили тьютора — она искала мальчиков, которые поднимали бы меня по этажам, приносила еду и готовила к ОГЭ. Еще позже в школе начали устанавливать подъемники. Ребята всегда принимали меня нормально, иногда даже с удовольствием катались на моей коляске, задавали много вопросов.
И все же тема инклюзии инвалидов в образовательную среду была тогда слабо развита. Родители всегда воспитывали меня как социализированного человека, хотели, чтобы я училась вместе со всеми. Однако в то время трудно было объяснить, что инклюзия — это не специализированный класс, а включение в общую среду. Я занялась этим сама: стала активно освещать тему, выступать на мероприятиях и тренингах, где на собственном примере рассказывала, как все должно быть устроено. С этой темой работает, например, организация «Перспектива»: я прошла у них подготовку и начала проводить в школах «Уроки доброты», рассказывая о себе и жизни людей с редкими заболеваниями.
В старших классах я выиграла специальную стипендию и поехала в Германию учиться по обмену.
Я увидела, как работает инклюзивное образование в ФРГ — это был бесценный опыт.
В немецкой школе я была единственным человеком на коляске, и как-то раз у нас запланировали поездку в другой город. Я сразу вспомнила, что в русской школе никогда не могла поехать куда-то с классом: во-первых, родительский комитет часто выбирал экскурсии в какие-нибудь бункеры, где мне было бы трудно перемещаться, а во-вторых — классная руководительница говорила, что не может меня взять, даже если мама меня отпускала. Поэтому я подошла и спросила у учительницы, есть ли у меня шанс поехать. К моему удивлению, она сказала: «А почему ты не должна ехать?»
В Германии ко мне не было никаких вопросов — никто не поражался, почему в обычной школе учится девочка с инвалидностью. В общежитии со мной жили разные ребята, в том числе паралимпийцы. Полностью доступная среда — вот что я там увидела: там нет проблем с тем, чтобы проехаться в общественном транспорте, попасть в любой магазин, ресторан или бар. Хотя в России, конечно, все тоже не так плохо: придумывают различные проекты, огромную помощь оказывают благотворительные фонды и НКО, оплачивая многие препараты и операции.
О проблемах инвалидов
Нужно готовить больше специалистов, которые знали бы о моем заболевании. Однажды я пришла в поликлинику подписать какую-то бумагу. Врач попросила принести снимки и спросила, какой у меня диагноз — «Ну хрупкость костей — это понятно. А в каком месте именно эта хрупкость?»
И все-таки главный аспект, над которым государство должно работать — это доступная среда. Почему мы так редко видим людей на инвалидных колясках, гуляющих в центре? Да потому что многие места все еще недоступны: я не могу самостоятельно ездить в метро, нужно заказывать службу сопровождения, которая сильно привязана ко времени и не учитывает форс-мажоры. Инвалидам не хватает этой физической свободы.
Впервые я почувствовала себя свободной, когда одна прокатилась в метро в Берлине. А здесь мне приходится перед походом куда-то — в бар или в клуб — проверять, смогу ли я туда заехать или сможет ли мне помочь кто-нибудь из охранников. Я не могу поздно возвращаться домой, потому что вряд ли получится подняться. Не так давно у нас в доме появился подъемник, но и с ним все не так просто: нужно позвонить, консьерж из соседнего здания нажмет на кнопку, и только через 10-15 минут подъемник опустится. Да и сам он устроен неудобно, будто проектировали его без участия человека с ограниченными возможностями.
Мне кажется, для проектирования инфраструктуры и создания доступной среды стоит привлекать инвалидов. Можно было бы, например, приглашать специалистов из стран с развитой инклюзией для обмена опытом. Но тут все, к сожалению, зависит от политической обстановки. Сама я хотела бы помогать с развитием доступной среды в России, однако для жизни Европа, в частности Германия, кажется мне более удобной страной для людей с ограниченными возможностями.
Редактор: Жанна Нейгебауэр
Проверьте, что вы узнали:
Хотите задавать вопросы героям материалов «Амбиверта»? Станьте одним из наших подписчиков на сервисе «Бусти» (российский аналог Патреона).
Мы благодарим наших бустеров, благодаря которые помогли нам выпустить этот материал:
Антон Селезнев
Иван Китов
Ксения Заикина
Стать нашим подписчиком можно по ссылке.
Возможно, вас также заинтересует:


«Главный миф — что болезнь возникает из-за поедания сладкого»: диабетики о сахаре, врачах и инсулине

«Я съедала кошачий корм и сваливала все на кошку»: люди с РПП о «здоровой» еде, анорексии и низкокалорийных диетах

«Они не умели точить карандаши, а сейчас работают на станке»: как устроена инклюзивная мастерская «Простые вещи»

«Врачи советовали втирать лук в кожу головы»: жизнь женщин с алопецией и облысением