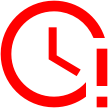«Рэп может записать любой идиот»: Константин Сперанский о «макулатуре», Моргенштерне и работе поваром
Скандал из-за веганского меда, любимые книги Егора Летова и причина появления скинхедов в России
Константин Сперанский — музыкант и участник рэп-группы «макулатура». Он также работал поваром в веганском кафе, редактором в журнале Esquire, новостником в издании «Русская планета», автором статей о литературе и даже SMM-щиком в издательстве «Индивидуум». Он рассказал нам о том, что сейчас происходит с «макулатурой», чем отличается рэп от панка, почему он не готов жертвовать жизнью ради музыки и о многом другом.
О «макулатуре» и рэпе
— Не так давно вы объявили о том, что «макулатура» распалась, хотя вскоре группа продолжила работать. Что это было?
— Я не то чтобы работал в «макулатуре». Это было скорее веселое и дружеское времяпрепровождение. У нас случился конфликт с Женей Алехиным (второй участник группы — Прим. ред.), мы успели друг другу поднадоесть. Он записал свои партии для предполагаемого альбома, а я никак не мог записать свои — и мы на этой почве посрались. Подумали, что лучше с этим покончить либо навсегда, либо на время.
Нам удалось записать последнюю песню под названием «Фоторужье» — и после этого наш конфликт загладился. На самом деле нельзя говорить о том, что проект закрыт, потому что это уже часть нашего образа жизни. Я не думаю, что у меня получится отделить себя от «макулатуры», просто она будет параллельно существовать и меняться вместе со мной. Поэтому разговоры о закрытии группы — это отчасти кокетство.
— Если на этом этапе подвести итоги: как музыка, жизнь в творческой тусовке и работа над «макулатурой» повлияли на ваши ценности, мировоззрение, может быть, даже политические взгляды?
— В какой бы музыкальной тусовке мы ни оказывались, мы всегда были на периферии и сами по себе. К нам постоянно предъявлялись претензии — что мы не настоящие панки, не настоящие антифашисты, не настоящие веганы. В итоге я понял одно — принадлежать к какой-либо тусовке по идеологическим критериям мне не грозит, и в этом смысле мы с Женей похожи на Егора Летова. Не в том смысле, что мы равновеликие Летову, я про другое. Настоящий ценитель творчества Летова понимает это положение — когда везде ты чужой.
Сперва я пытался говорить с людьми, которые нас отписывали отовсюду. Я думал: «Ну, раз это делают разные люди под разными флагами, то, может быть, проблема в нас!» А потом забил на это, мы должны быть сами по себе. И это главный урок, который я извлек из этого опыта.
И я очень доволен тем, что рэп-сообщество не всосало нас в себя. Слава Богу, этого не произошло.
— Насколько я знаю, вы причисляете «макулатуру» скорее к панку, чем к рэпу. Чем отличается создание рэпа от других жанров музыки, и в чем особенность панка?
— Панк — это скорее определенная этика и определенный подход к творчеству. В этом смысле меня вдохновляет группа «Ленина Пакет», потому что у них абсолютно такой панковский подход. Какие-то зашифрованные, понятные только для пары человек послания и абсолютная неориентированность на массовую аудиторию, при этом очень народный продукт. Мы в этом плане не можем на них равняться, потому что мы в большей степени индивидуалисты. А панк для меня — это такая этика, когда ты на коленке делаешь то, что тебе нравится, и живешь этим.
А рэп чем хорош — тем, что его может записать любой идиот.
И это круто, это его большое преимущество! Например, Моргенштерн или Слава Марлоу большие молодцы. Я сейчас без иронии говорю — это такой запредельный край рэпа, который я вообще не слушаю, но идеологически я на их стороне. Потому что они делают для разрушения рэпа больше, чем кто бы то ни был.
Вот кого я ненавижу, так это группу «Каста», потому что они абсолютные агенты рэп-культуры. То же самое с Оксимироном, который считает рэп искусством. Это вызывает у меня только смех. Потому что рэп для меня это просто подделка. Это не культура, эта вещь настолько выродилась и слилась с самыми низкими, самыми стремными и вызывающими оторопь явлениями, что потеряла всякую магию и право называться культурой.
— В интервью изданию «Дистопия» вы говорили, что вам ваши тексты не нравятся, в отличие от Евгения Алехина. Как вам удается сохранить баланс между перфекционизмом и конструктивной самокритикой?
— Когда ты написал текст и послушал его в готовой песне, некоторое время ты тащишься на этом топливе. Тебе кажется, что все хорошо получилось. Потом проходит время, после чего текст уже отмирает. Это странное ощущение, когда ты вроде бы чувствуешь свою причастность и в то же время уже находишься на огромной дистанции по отношению к этому произведению. Как будто бы ты выскреб всю свою творческую ничтожность, которая и дала жизнь этому треку.
А когда я слушаю партии Жени, тоже созданные при моем участии, я вижу совершенно другой взгляд, другие слова и в другом порядке. Приятно чувствовать свою сопричастность к его музыке, но если говорить конкретно про мои тексты — я без всякого кокетства могу сказать, что они мне не очень нравятся.
Об опыте работы и проектах
— Еще вы сказали, что вы не смогли бы заниматься только музыкой, что вам нужно несколько дел сразу. Как вам удается совмещать разные проекты?
— Я уже несколько раз произнес словосочетание «образ жизни». Тут все важно в комплексе. Допустим, я люблю копаться в книгах, делать выписки, тоже считаю это одним из своих дел. Или когда пишу свой дневник, заметки, стихи, занимаюсь спортом или делаю подкаст — я не думаю, что это отдельные институции. Это все совмещается во мне одновременно, одно без другого не может существовать.
Я бы не смог вжиться в образ рэп-музыканта, который все свои дни проводит на студии, хотя, может, так и лучше бы получался рэп. Но я готов пожертвовать качеством музыки для того, чтобы иметь все остальное в моей жизни. Я воспринимаю все эти занятия как ядро моей личности, откуда вытащишь одно — развалится все остальное.
— Помимо занятия рэпом вы работали поваром, новостником и даже редактором журнала Esquire. Как это было?
— Мне нравилось работать поваром. Я работал в веганской кафешке, называлась «Кабина». Это детище — отчасти заслуга Жени Алехина, потому что он дал деньги на основание этого кафе. А работал я там с его бывшей женой, мы готовили веганский фастфуд.

Дарья Алехина (бывшая жена Евгения Алехина) и Константин Сперанский в то время, когда они готовили для веганского кафе «Кабина». Фото: sadwave.com
Из этого я вынес примерно такое же чувство, как из занятий рэпом: веганы часто предъявляли нам претензии за то, что мы что-то не то положили. То есть даже не вдаваясь в подробности, нас сразу начинали критиковать и кидать предъявы. Например, когда я делал медово-горчичный соус, я использовал мед из Vegan Bunker, который состоит чисто из паприки с сахаром. И нам одна веганка написала, что мед это зашквар, заскриншотила и разослала по всем веганским пабликам. Мол, они делают с медом, не ходите сюда. Я не стал объяснять ей, что это веганский мед — когда имеешь дело с агентом определенной идеологии, он тебя в своем сердце все равно зашкварит, что бы ты ему не говорил.
Это был интересный антропологический опыт для меня. И после этого я перестал быть веганом. Я до сих пор стараюсь есть и готовить по вегану, но я уже не презентую себя в качестве вегана и никому не советую им становиться. Даже наоборот. Если меня спросят, я буду говорить: можете становиться веганами, но ни в коем случае не говорите, что вы веган. Потому что я реально очень испугался, когда столкнулся с этим сообществом.
А в Esquire у меня был довольно адский опыт. Я просто искал работу после того, как закончил с рэпом. Я думал, что нужно найти настоящую и постоянную занятость. Мне понравилось, что это вроде бы журнал о культуре, при этом такой неосвоенный, как полувыжженная земля. Я читал, о чем они пишут, и мне казалось, что вообще ни о чем. То есть их темы никак нельзя было определить, просто какая-то муть. И я подумал, что тут можно делать что-то свое. И тиснул туда несколько текстов, к примеру, про писателя Эрнста Юнгера, тогда был как раз его день рождения. Или статью про еще одного писателя — Бориса Виана. Тексты нормально читались, хотя и не очень много набирали просмотров — по 3-4 тысячи.
Поработав в Esquire некоторое время, я понял, что эта муть и бесформенность — принципиальная редакционная позиция.
К примеру, однажды главный редактор Сергей Минаев собрал круглый стол с феминистками. Причем позвал туда людей, отписанных от самого движениями другими феминистками. В итоге получился круглый стол, который посмотрело 500 человек. Это и есть концепция журнала Esquire, где ты имитируешь деятельность, вроде говоришь с кем-то о чем-то, при этом это никому не надо, а твои собеседники даже не верят в то, что они говорят. Меня ужаснула не сама интенсивность работы, что нужно было много делать, а вот эта странная стратегия, когда нужно имитировать деятельность. Это меня пожирало изнутри, я не мог долго там находиться.
Что касается новостника — это, наверное, лучший профессиональный опыт в жизни. В редакции портала «Русская планета» меня учили писать. На тот момент это была, наверное, одно из лучших новостных редакций со старой «Лентой.ру». Меня там учили создавать информационные тексты, делать фактчекинг и многое другое. Была учеба, прямо как в школе. Дали мне такой чемоданчик с инструментами, с которым я не расстанусь — он мне не раз потом еще пригодился.
— Теперь вы SMMщик в издательстве «Индивидуум». Почему вы решили пойти туда?
— Мне очень нравится «Индивидуум». Там отличные ребята — у меня давно такого не было, что с коллегами можно было о чем-то поговорить и что они тебя понимают. А моя симпатия к самому издательству впервые возникла, когда они выпустили книжку «Эзотерическое подполье Британии» (О британских музыкальных группах Coil, Throbbing Gristle, Current 93, Nurse With Wound, а также о традиции английской эксцентрики и визионерского искусства: художниках Уильяме Блейке, Луисе Уэйне, Чарльзе Симсе и других — Прим. ред.). Тогда мое представление о них перевернулось. Раньше я думал, что они специализируются больше на таком популярном нон-фикшне и делают все в духе старого журнала «Афиша». То есть мне казалось, что они ориентируются на такую постхипстерскую аудиторию, желающую узнать что-то новое и при этом необязательное, немножко с фигой в кармане миру и Большому Брату. Меня это не очень цепляло.
Но выпуск «Эзотерического подполья Британии» мне очень понравился, именно как жест. Это было прям на меня ориентировано. Ну и выход последней книги Эдуарда Лимонова «Старик путешествует» (Последняя книга писателя, где он вспоминает о своем детстве и пишет о поездках в Европу — Прим. ред.) мне тоже понравился — это было мощно. Когда я пришел, они издали еще одну классную книгу «История России в 14 бутылках водки», я ее сразу же прочитал. А потом уже был «Значит, ураган» Максима Семеляка про Егора Летова. Тогда я и понял, что я оказался там, где нужно.
О литературе
— Еще вы написали цикл статей для журнала книжного сервиса Bookmate про разных писателей и в том числе про одного музыканта, а именно — как раз про Егора Летова. В этом материале вы пишите, что Летов одновременно любил и Достоевского и битников, сочетал в себе достаточно несочетаемые вещи. Что можно понять о лидере «Гражданской Обороны» по его любимым книгам?
— У Летова вкус типичного интеллигента конца 80-х или начала 90-х годов. Что логично, ведь он формировался как раз в то время и был тогда совсем молодым парнем. И как и многие в то время, он попал в это ядро любителей Кастанеды, психоделических экспериментов и битников. Когда я стоял на ярмарке на Красной площади и продавал книги «Индивидуума», то удивился, что никто не покупает книгу про Уильяма Берроуза. И я подумал, что если бы мы стояли в 90-е годы с этой книгой, то ее бы просто зубами у нас вырывали. А сейчас почему-то прошел этот интерес.
Летов был представителем того поколения, которому нравилась переводная западная литература: Борхес, Маркес, Кундера и другие писатели, которые хлынули гигантским водопадом на всех после падения железного занавеса. Но при этом Летов читал по-своему, у него была особая практика чтения. Его главная мысль заключалась в том, что идеи не принадлежат никому — ты срываешь их, как плоды с деревьев, и присваиваешь себе. Наверное, он приобрел это благодаря своему литературному багажу.
— Давайте поговорим про Шарля Бодлера, про которого вы тоже писали статью. По-вашему, Бодлер — это противоположность Пушкину. Можете объяснить, что вы имели в виду?
— Я имел в виду, что это такой злой двойник Пушкина. Все, что было у Пушкина — это его жизнелюбие, здоровый интерес к истории и быту, любовь к широким мазкам и историософскому взгляду на мир. Он очень любил исторические романы, например. А Бодлеру это все было ненавистно!
При этом они оба были революционерами, каждый в своем ремесле. Бодлер — это для французов все, примерно как Пушкин для нас. Он синтезировал себя, воплотил в себе такой образ универсального француза, включая даже нелепого и неловко шутящего олуха, примерно как Пьер Ришар. Это все было в Бодлере, он даже внешне напоминает Ришара. Но самое главное — это его декадентская и ядовитая эссенция, которая в нем жила и растворяла все вокруг.
А у Пушкина наоборот — такой русский дух, жизнелюбивый. Он взгрустнет, а потом снова готов к подвигам. И при этом фаталист, погибший на дуэли. Мне кажется, они в этом и похожи друг на друга, и противоположны друг другу одновременно.
— Интересно еще спросить про Эдуарда Лимонова. Почему вы назвали его самым европейским писателем в вашем тексте? Разве у нас не было, к примеру, Тургенева, который тоже претендовал на такой статус?
— Лимонов все-таки из 20-го века, в отличие от Тургенева. Редактор Ad Marginem Александр Иванов в одном подкасте интересно сказал про Лимонова, что это такой крипто-хохол, немножко нерусский человек, в смысле своей европейскости. Вечный чужестранец. Он был чужой в России и подчеркивал свою чуждость во время жизни в Европе и в Штатах.

Лимонов в 1987 году в Париже. Фото: rbth.com
В России же образ чужого другой. Наш русский чужой должен всегда быть немножко припизднутый, прошу прощения за это слово. А Лимонов был гордый и бескомпромиссный. Это совсем другая модель поведения. В его творчестве отражалась его европейскость — его умение вовремя поставить точку, не рассусоливать, писать лаконично.
А вот в своих стихах он был менее европейцем. В поэзии он мог вдруг так неожиданно обнажиться, потому что он думал, что никто, наверное, не будет читать. А ты читаешь и удивляешься: неужели это тот человек, который говорил про Людмилу Алексееву: «чтоб ты сдохла, старуха, испортила нам революцию» (Речь идет о конфликте в 2010 году, когда писатель и правозащитница не могли договориться о месте проведения митинга — Прим. ред.) или ругался с Немцовым или еще с кем-то.
И этот человек потом пишет такие трогательные стихи про то, как он грустит по своей жене Наталье Медведевой, вспоминает свои годы в Париже. Это странно, ведь он никогда не подпускал людей к себе, а в стихах внезапно такая мягкость. И это не европейская черта. Стихи у него достаточно русские. У него, по-моему, сборник стихов первый так и назывался — «Русское».
— Также вы посвятили статью Андрею Платонову. Как так получилось, что писатель, беззаветно веривший в советскую власть, стал ее заклятым врагом?
— Это вопрос судьбы. С идеологией так часто происходит: вот Бухарин был отец революции и ее верный соратник, а потом его загнобили и убили. С агентом идеологии невозможно разговаривать на содержательном языке. Это скорее язык любви, абсолютно слепой и беспощадный.
Платонов все это чувствовал, он предвидел и предвосхищал свою судьбу — это чувствуется по его письмам. В них такая тревожность, такие печальные ноты, которые он всегда сохранял в своих текстах. Поэтому он породил странный мир людей, пылающих энтузиазмом, при этом их энтузиазм рождался из тоски. Его герои пытались преобразовать абсолютно мертвое пространство, где жили какие-то полумертвые люди, чуть ли не с песьими головами.
В мире Платонова сочетаются умирание, всеобщая печаль, постоянный вечер и взрыв самоубийственного энтузиазма.
Наверное, никто другой не способен ни вообразить, ни тем более описать это все. А Платонов умел целые вселенные описывать. Он нашел их в себе, и каждый его читатель находит их в себе так же. В этом его сила.
А то, что он остался до конца коммунистом, верил в советскую власть — это было искренне. Он знал, какая его ждет судьба, но он был мужественным и несломленным человеком. А судьба у него была, наверное, самая трагическая (В числе прочих репрессий советские власти посадили в лагерь 15-летнего сына писателя, после чего подросток заболел туберкулезом и умер — Прим. ред.). Даже более трагическая, чем у Бабеля и многих других, кого тогда расстреляли. Он наравне с Мандельштамом или Шаламовым. У всех них были свои трагедии, но такого, что сделали с Платоновым, не сделали больше ни с кем.
О политике
— Давайте перейдем к еще одной трагической теме — к новейшей политической истории России. Вы активно участвуете в создании подкаста под названием «Модернизация». Он посвящен теме протестов в России нулевых годов и тому, что происходило до выступления на Болотной площади в 2011 году. В первом выпуске говорится о рождении современной оппозиции. И удивительно, что тогда политикам удавалось преодолеть разногласия и заключать союз, к примеру, либералов и нацболов. Сейчас как будто бы эта способность утрачена. В чем секрет того, что люди умели тогда договариваться и почему они сейчас растеряли это умение?
— На тот момент это были тактические договоренности. То есть мы можем, допустим, будучи нацболами, договориться с яблочниками о совместном митинге, но мы не можем договориться о совместных целях хотя бы на ближайшие выборы. Когда начинается разговор о реальных целях, уже все – начинаются разногласия.
Я бы даже сказал, что сейчас ситуация получше, потому что как бы ни относились к «Умному голосованию», формально оно объединяет разные политические силы. И сейчас проходят митинги, на которые выходят люди с самыми разными убеждениями или вовсе без убеждений. А тогда было ощущение нарождающейся силы, в которую все верили.
Сейчас мы можем говорить, что в то время мы не смогли преодолеть тактические разногласия или что у нас не было стратегических целей, но тогда было ощущение рождения — на твоих глазах идут люди с разными знаменами, вступают в борьбу с ОМОНом, проводят шествия, «Марш несогласных» — это вообще было что-то неслыханное, что-то новое и живое. Ведь первую треть нулевых годов выступали только лимоновцы. Их никто не поддерживал, они были единственными на улице. Потом уже вышли радикальные либералы и все остальные.

«Марш несогласных» в 2009 году. Фото: Рустем Адагамов
Олег Кашин в то время писал, что «Марш несогласных» — когда лимоновцы выходят с либералами — это как смешать килограмм повидла с килограммом говна и получить два килограмма говна. Мол, ничего хорошего из этого не выйдет. На самом деле так и оказалось, но история все равно красивая. А сейчас мы живем только ради красивых историй, а не ради реализаций политических задач. Это вообще невозможно в условиях современной России.
— Второй выпуск подкаста посвящен серии протестных акций под названием «Стратегия 31». Если сравнить то время и современность, чем последние митинги в поддержку Навального отличаются от уличных акций того времени?
— Хотя бы тем, что «Стратегия 31» преследовала определенные политические цели, была плацдармом для будущего протеста. Эта акция заявлялась как начальная точка, с которой можно «идти на Кремль». Как бы сейчас это ни звучало. Люди собирались на Триумфальной площади каждое 31 число. Предполагалось, что как только наберется критическая масса, как только количество людей перевалит за определенные рамки, то люди пойдут в сторону избиркома, мэрии, Кремля или чего угодно. Ведь это началось еще в 90-х: Лимонов описывал подобное на одной из акций «анпиловцев» (движение леворадикального толка под руководством Виктора Анпилова — Прим. ред.), когда люди собрались на Триумфальной и пошли на Манежную площадь, заполонили всю Тверскую. Видимо, этот образ у него застрял в памяти и он захотел его повторить. Но тогда не удалось повторить, в итоге акция превратилась в такой хеппенинг, где отрывались люди с разной степенью демшизовости.
А все эти шествия за Навального изначально обречены на поражение. На самом деле не было понятно, зачем это происходит. То есть зачем люди выходят — требовать освобождения Навального? Окей, однажды это сработало (в 2013 году Алексея Навального выпустили из-под ареста по делу «Кировлеса» после акции протеста — Прим. ред.). Сейчас же было понятно, что это не сработает, что власть готова любым способом это пресечь. И людям, которые выходят, будет очень плохо после этого. Так и оказалось.
При этом никто не понимал, ради чего он жертвует собой. А жертв сейчас намного больше, чем тогда было. В то время человек мог разве что сесть на 15 суток. Сейчас ты влипаешь в неведомо какие последствия. Действует фатальная система слежки, когда людей выцепляют — мою знакомую спустя несколько месяцев выцепили за акцию 21 апреля. К ней приехали менты, пасли ее возле подъезда несколько часов и стучали в квартиру. В итоге поймали, увезли, оформили. Спустя два месяца. Такого не было в ту пору, которую мы описываем. Тогда было ощущение, что пусть на стороне власти силовики, сила принуждения и так далее, но все же можно было бороться — выходить на улицы. А сейчас решительно непонятно, что делать, потому что улицы исключили из политической области. И людям остался только интернет. Но я думаю, что это не повод горевать, я думаю, что это повод… как пела группа «Соломенные Еноты»: «Я превращаю себя в остров-крепость!» Вот так и надо делать.
— Видимо, только это и остается. В третьем выпуске вы говорили про историю русского национализма. Сейчас это достаточно странно вспоминать и хочется понять, в чем была причина радикализации этого движения: появление Тесака, группировки БОРН (запрещена на территории РФ) и всех прочих элементов этого движения?
— Для ответа на этот вопрос нужно понять, как появились боны (НС-скинхеды, ультраправая субкультура — Прим. ред.). Их было реально много. Это была первая реакция на тотальный мрак действительности. Ты можешь взять подтяжки деда, купить берцы за 400 рублей, и все. И ты готов! Ты просто выходишь на улицу, и выбранный сценарий ведет тебя дальше. Ты находишь друзей во дворе. В конце 90-х, начале 2000-х это было просто. Попадаешь в компанию и дальше плывешь на корабле, заполненном такими же отмороженными чуваками.

НС-скинхеды на «Русском марше». Фото: Максим Шеметов / Reuters
Причина была не в идеологизации. Потому что идеологическими мозгами были субтильные студентики с истфака вроде Ильи Горячева (лидер движения БОРН, осужден на пожизненный срок за организацию убийств — Прим. ред.). Они были идеологами движениями, злыми гениями. Мечтали о национальной революции. Были как доктора Менгеле всего этого дела. А остальные — это больше, скорее, солдаты, которые попадали в эту армию не всегда осознанно.
На «Базе» был текст про детей криминальных авторитетов. Там фигурировал один деятель антифашистского движения по прозвищу Чехман, который сейчас отбывает наказание за убийство. Вот он рассказывал, как он начинал с 12 лет — записался в боны, а потом познакомился ближе со скинхед-культурой и подружился со скинами (имеются в виду так называемые «шарпы», скинхеды-антифашисты — Прим. ред.). И понял, что боны — это отстой, а настоящая культура должна быть без предрассудков и без расизма.
А боны на самом деле не были националистами, потому что у них не было светлого образа из прошлого. Тесак и ему подобные — люди с такими глумливыми физиономиями без принципов — на самом деле к национализму не имели отношения. Националисты — это Илья Горячев. А Тесак и похожие на него — просто боевики постмодернистского времени.
Не зря Хржановский снял Тесака в своем «Дау», где тот убивал свинью или делал что-то в этом роде. Такое амплуа выбрано неспроста, потому что это действительно просто злодей цифровой эпохи. Были еще боевики из НСО «Север» (запрещенная организация в РФ), такие гитлеристы. Они убивали людей и были идеологически мотивированы на стопроцентное зло. При этом их возглавлял подментованный Дмитрий Румянцев, который отделался условным сроком по 282 статье и сейчас спокойно существует, живет и говорит, что он не при делах. Это совсем другой тип лидера. Тот же студент Илья Горячев отъехал на пожизненное.
Единственный, кого не парализовали до конца — это Дмитрий Демушкин, который стал примером перерождения из бона в политика. Непонятно, что с ним сейчас будет, но он вроде как пока не сдается. Уверенный политический активист — полулиберальный, полуправый. Интересная судьба, конечно, тоже.
Вообще, это все очень мрачная история. На мой взгляд, в подкасте нам не удалось полностью ее передать. Мы больше сконцентрировались на «русских маршах», а если описывать полностью эту вязкую мрачную атмосферу — это надо отдельный подкаст, наверное, делать. И читать очень много текстов, связанных с правыми движениями. Одна вот эта книга Фальковского про НСО «Север», собранная из разных заседаний судебных материалов, — ее читаешь, и кровь в жилах стынет. Одна из самых жутких историй в этом нацистском сюжете.
— В четвертом выпуске подкаста речь идет об акционизме нулевых годов, в частности, об арт-группе «Война» и знаменитом активисте Лёне Ёбнутом. Как менялся русский перфоманс и что с ним стало теперь?
Группа «Война» мне никогда не нравилась, как и вообще советский-постсоветский кружок перфомансистов-концептуалистов. Я им интересовался только через фигуру Владимира Сорокина. Мне не нравились остальные родители современного акционизма: Монастырский, Бренер. Я вообще не понимаю этого, если честно. У меня, наверное, отсутствует чувство, ответственное за понимание их акций, абсолютно не трогают меня. При этом меня трогают акции раннего НБП, что-то связанное с тоталитарной эстетикой и чем-то помпезным, с такой мощной материей. Это меня интересует больше, чем история, связанная с юродством и плясками вокруг соленого огурца, упавшего со скатерти, как мне видится все это концептуалистское подполье.
Поэтому революцию акционизма мне трудно отследить, я могу сказать только про Лёню Ёбнутого, который единственный меня интересовал. Я не любил группу «Война», я думал, что они все — малоинтересные бомжи. Единственное, что у меня в них вызвало доверие — они отдавали деньги политзаключенным. Я думал: круто, правильно делают! Их отмороженность меня тоже восхищала, хотя в любой региональной панк-тусовке таких людей всегда полно. Единственная разница — они не идеологически заряжены. Когда ты верстаешь под это дело идеологию и говоришь: идите в «Ашан», воруйте продукты, а потом мы напишем манифест, то это будет еще одна акция группы «Война». Я не пытаюсь звучать как Никита Хрущев, критиковавший «дегенеративное искусство» или что-то такое. Но у меня все равно было похожее ощущение от их акций.
А Лёня Ёбнутый оказался святым, таким русским сподвижником и юродивым в высоком смысле слова. И меня удивила его судьба. Он единственный из всех трагически погиб и со своей судьбой примирился. Его история стоит отдельно от этого акционизма. Она стоит гораздо больше, чем вся история группы «Война».
— В 2013-м году вы говорили, что политика в России дико вдохновляет, что именно из-за ее интенсивности вы не хотите уезжать из страны и что скоро здесь произойдет перелом. Вы сейчас согласны с тем, что вы тогда сказали?
— Мало того, что я не согласен. Я еще не очень понимаю, что меня могло вдохновлять в то время. Меня уже давно политика не интересует. Я не обманываюсь на этот счет и всем желаю этого. Давать прогнозы я не буду, но такое ощущение, что еще очень долго здесь будет такое стерильное пространство с точечными зачистками. Оно будет двигаться и дрейфовать, превращаться в мусорный материк. Может показаться, что я испытываю по этому поводу негодование. Но это не так. Я думаю, что раз нам досталась такая судьба, то нужно что-то с этим делать. Нужно обращать взор внутрь себя — если большинство людей этим займётся, то обязательно что-то получится. Но получится не в том виде, в котором мы привыкли, результаты будут не в сфере публичной политики.
Если говорить о моих политических взглядах, то я социал-монархист. Я за восстановление в России конституционной монархии, при этом с сильным социальным государством, красивыми ритуалами и со всякими такими штуками. Я понимаю, что это нереалистично — у нас, скорее всего, будет корпоративное государство. Демократия у нас, как всегда, выльется во власть корпорации. Мне это не нравится, и поэтому я за социал-монархизм!
При этом по возможности нужно валить из федерального центра, из Москвы. Лучше где-нибудь окопаться и ждать, читать книжки, учить языки. Я думаю так.
Проверьте, что вы узнали:
Возможно, вас еще заинтересует:


«Многие думают, что мы кроме травы ничего не едим»: молодые веганы о своем образе жизни

«Пластинка — это такой крестраж»: как и зачем люди слушают винил

«Через десять лет мы не узнаем сами себя»: Юрий Сапрыкин о кино, Летове, книгах и будущем

«Книги будут умирать и превращаться в предмет роскоши»: Евгений Жаринов о литературе, образовании и романтизме